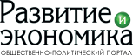![]()
Выход на арену третьего мира, затем глобализация и сопутствующая
ей трансграничность в числе иных следствий ведут к слому цивилизационного
стандарта, вселенской мультикультурности, плотному сосуществованию
аксиологически и теологически автономных миров.
Равным образом фиксируется культурная растерянность эпохи, обострение ее охранительных рефлексов, общая фрустрация, смесь депрессии/ажитации позднего индустриализма, обнаруживаемые в едва ли не экспоненциальном росте систем контроля и безопасности, изобилии симулякров, моральном релятивизме, консьюмеризме, иных проявлениях феноменологии массового общества, а также в эксцессах секуляризма.
Рационализм, воплощаемый как редукционизм, ведет к восприятию реальности как тривиальности. Светскость же, трактуемая как прагматичный, слишком прагматичный шаблон, уплощается, теряя культурную полноценность, а заодно историческую легитимность. Усеченный индивид творит конъюнктурные коллажи из обрывков прописей и осколков прежней картины мира.
***
Поздний индустриализм балансирует на подвижной границе с зарей Постмодерна.
Постсекулярность может рассматриваться в подобной схеме как инструмент адаптации к возникающим вызовам времени. А заодно как попытка освободиться от остатков «искусной искусственности» пантеизма и мимикрии нигилизма, окультуренного под здравомыслие.
Мультиконкретная модель пробуждает к жизни гиперреализм бытийного текста, основанный на деконструкции wishful thinking схоластичных прописей Просвещения («хотелок Модернити»). Причина – в настойчивом поиске подлинности, стремлении искушенного духа постичь смысл событий, каким бы тот ни оказался. Это – экзистенциальная позиция, которую нельзя обрести простым путем или купить за медные деньги, но которая произведена на свет трагическим опытом, вынужденным мужеством и… отчаянным эскапизмом. Предопределив тем самым ощутимый сдвиг в мировидении.
Жесткие истины, возможно, приоткрываются слишком рано, либо же это нечто, превосходящее способность человека принять иную версию реальности. Подобно мастеру-творцу Виктору Франкенштейну Zeitgeist расчленяет, преобразует, сочетает – подчас в эпатажной комбинаторике – привычные, то есть прошлые, трактовки, «музейные представления», рассматривая их в качестве простых красок на палитре – рутинного подспорья в неистовом поиске квинтэссенции бытия. И обращается с ними как с подручным материалом, существенно меняя при этом значение категории «коллаж».
Во всяком случае, европейская версия постсекулярности – не досекулярное состояние и не возврат к прежней конституции (как Контрреформация не означала возврата к дореформационным порядкам), не религиозно-сословная унификация и не реванш религии в прежнем формате. Скорее результат долгосрочной индивидуации, симптом «хорошо темперированной» социальной/ментальной полифонии, хотя порой с элементами какофонии.
***
Однако постсекулярность – это также эклектичный дизайн постколониальной трансгрессии, мультикультурная взвесь, оседающая на территориях диффузного сосуществования, не вписывающаяся в региональную социокультурную модель (наиболее яркий пример – «реколонизация Европы»). Глокальный интернационализм демонстрирует разницу в энергетике геокультурных потенциалов. И кризис прежнего цивилизационного ценза.
На пороге века возродилась тема цивилизационной конкуренции. В условиях постколониализма европейская сумятица соприкасается, совмещается с разноликой экспансией Востока. Возникает, в частности, диалог о потенциях ислама, об универсализме мусульманской идентичности (особые темы: перспективы евроислама, посткемалистская модель, глобальная дисперсия специфической правовой системы, рост ее влиятельности, признания, ползучая легитимация и т.п.). К тому же «арабская весна», замещая светский авторитаризм умеренным исламизмом, запустила на Большом Ближнем Востоке процесс формирования постсекулярного геополитического массива в собственной редакции.
Постсекулярность связана, кроме того, с той универсальной антимодернизационной волной, которая, по-своему опровергая и отвергая плоды Модернити, реализует себя в форматах деятельного консерватизма, нового традиционализма, порою в обновленческой, фундаменталистской либо сугубо спиритуалистичной упаковке.
Проявляется она также в химеричной, неоархаичной реальности распавшихся или несостоявшихся государств…