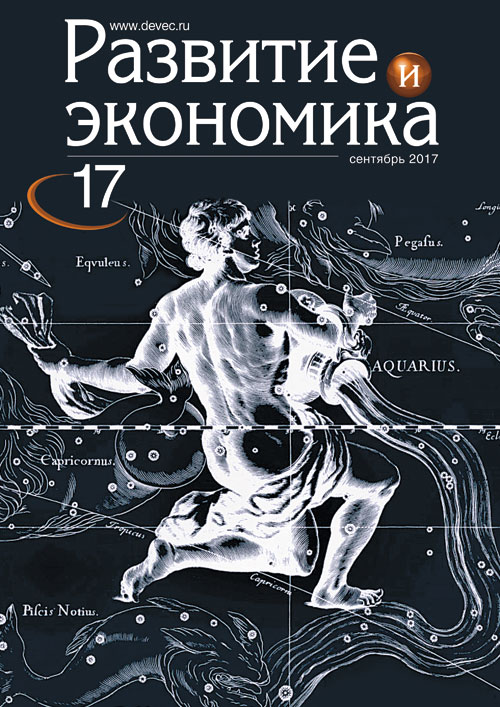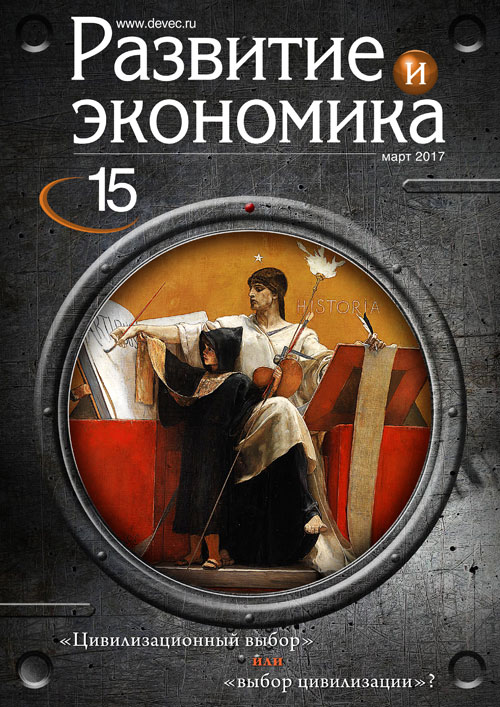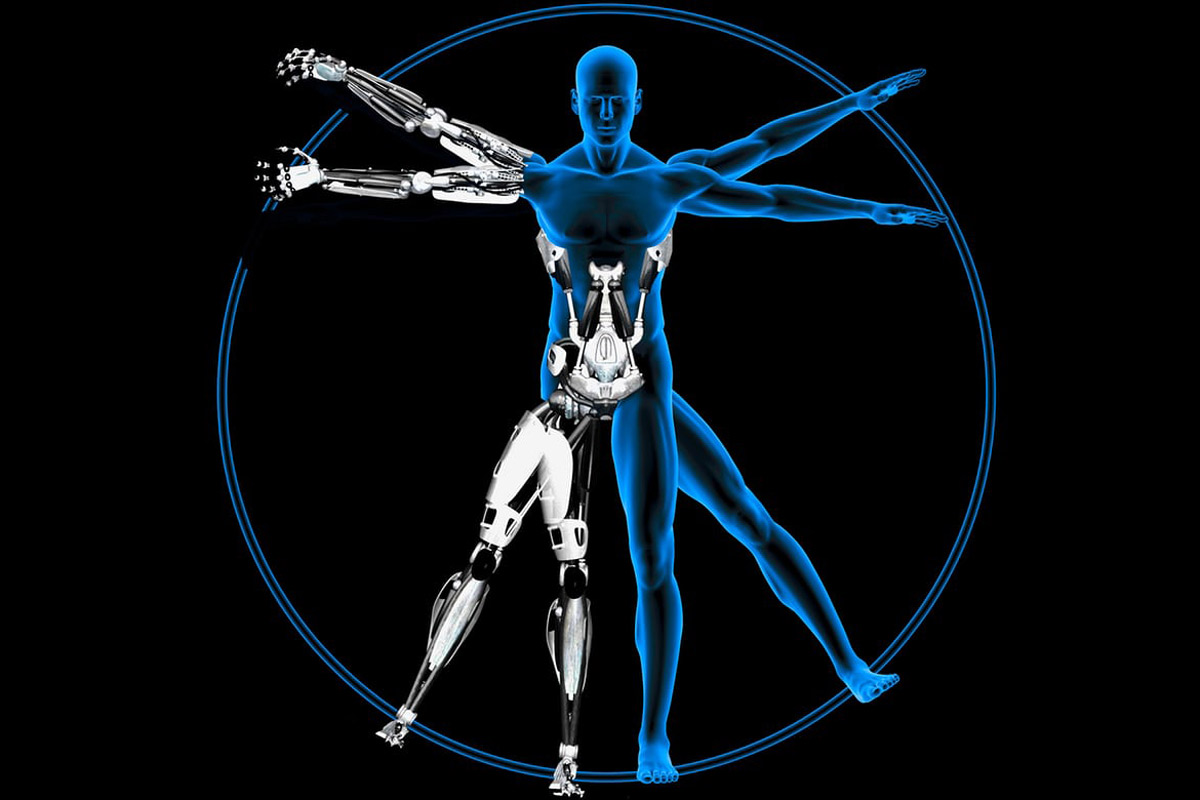3
Парадокс религии, её бомба замедленного действия – альтернативность веры и знания. Тертуллиан во втором веке провел водораздел в формуле «Афины или Иерусалим»: «Итак, что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между еретиками и христианами? Наше учение происходит из притвора Соломонова, который и сам учил, что Господа надлежит искать в простоте сердца своего. Что из того, если вам вздумается выдумывать стоическое, или платоническое, или диалектическое христианство! Нам же после Христа Иисуса, после того как нам возвещено Евангелие, нет никакой надобности учить что-либо или исследовать. Если мы верим, то мы не желаем ничего, что было бы больше веры». Эффективность этой установки, за редкими исключениями, засвидетельствована всей ранней историей христианства – от поджога библиотек до изгнания философов. Когда потом спустя века изгнанное знание начнет возвращаться в христианскую Европу, оно уже будет нести на себе логотип не столько Афин, сколько Багдада, а его глубоко антихристианский характер окажется лишь свидетельством того, что маятник качнулся в другую сторону и что абсолютизация одной крайности не могла не спровоцировать абсолютизацию другой. В формуле «Верую, ибо абсурдно» центр тяжести лежит в причинном «ибо», соединяющем «веру» и «абсурд». Откровение оттого и абсурдно, что на него посягают силами мышления, полагая, что могут понять и объяснить непонятное и необъяснимое. Совсем другое, когда в непонятное и необъяснимое верят, и верят тем сильнее, чем нелепее оно являет себя в оптике знания. Знание – соблазн, грех и гордыня: извечный исследовательский грант Люцифера, получив который стипендиат рассчитывает познать Бога, а познав его, стать им (по апофтегме Мейстера Экхарта: «Бог и я суть одно в познании»). Дьявол искушает вопросами, на которые у веры нет ответов и от которых она обороняется запретами, отлучениями и кострами. Впрочем, при случае и оплеухами – в романе «Братья Карамазовы»: «Как-то однажды, всего только на втором иль на третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся. “Чего ты?” – спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. “Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?” Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. “А вот откуда!” – крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней». На несколько веков. Когда он потом вышел из угла, уже не как мальчик, а как ученый муж, он сам стал загонять в угол вчерашнего насильника, даже не подозревая о том, насколько прилежно он усвоил повадки и замашки последнего.
4
Хотя Римско-католической церкви и удалось удержать натиск Реформации, а большей частью даже и отбить его, это не могло уже иметь никакого значения на общем фоне вытеснения религиозной парадигмы иными парадигмами – политической, гражданской, научной. В борьбе против Лютера (в широком смысле – против германства как такового), от Тридентского собора до Тридцатилетней войны, религиозному фактору была отведена роль фигового листка, тщетно прикрывающего прагматические одержимости. По существу, Реформация разыгралась в плену той же ложной оптики, что и итальянский Ренессанс – рождение нового оба раза было принято за возрождение бывшего: христианского бывшего и античного бывшего. Лютеру, потрясенному масштабами разложения Церкви, казалось, что он её возрождает, тогда как в действительности он её уничтожал: вопреки Ницше, в пароксизме страсти ругавшему его за то, что он её спас. Можно было как угодно нападать на протестантизм и искоренять его всеми возможными и невозможными средствами. Решающим оставалось то, что, борясь с ним и даже побеждая его, не замечали, что находятся в его же силовом поле и действуют в рамках им же заданной секуляризации. Только уже не по течению, а против течения, и значит, обороняясь от повального обмирщения и пытаясь спасти хоть какие-то реликты сакрального среди сплошных санационных работ и строительных лесов расколдовываемого мира. Лютер очищал Церковь от «сатирикона» и «декамерона», открывая, сам того не желая, дверь совсем иным реалиям. Прежнее религиозное призвание (vocatio, Berufung) стало после Лютера профессией, профессиональным призванием (Beruf) на основе знания. И уже в скором времени выяснилось, что если с теми, прежними (семью или больше), грехами можно было еще – пусть позорно, пусть провально, – но жить, то от этого не было уже никакого спасения. Знание, перенесенное в мир веры, разъедало веру как ржавчина, и тут не помогли даже нечеловеческие усилия иезуитов, пытавшихся уже с начала XVII века перехватить инициативу, чтобы лишить дьявольских немцев монополии на знание. Между тем дьявольщина была в другом. Знание, вторгаясь в мир веры, обнаруживало себя как неадекватное и агностичное. Чего оно хотело, так это быть опытным знанием, но если опыта его вполне хватало еще на наблюдение и объяснение свободно падающих тел, то к мирам «души» и «духа», нечувственного вообще у него, за отсутствием соответствующего опыта, просто не было доступа. Западный мир шумно и ликующе приобщался к теориям и практикам номинализма, и не было ничего удивительного в том, что ни богословы с их «научным богословием», ни склонированные с них атеисты с их «научным атеизмом» и слышать не хотели о гнозисе – не старом, фантастическом, а новом, научном. Протестанты оказывались в этом отношении лишь прилежными учениками католиков, а в ряде случаев обнаруживали даже большее рвение, чем учителя. Образовавшийся тупик впечатлял тупостью аккуратного в него попадания. С одной стороны, хотели знания, с другой – блокировали каждую тенденцию его быть адекватным. Теологии, даже не мечтавшей тягаться по строгости и точности метода с естествознанием, не оставалось ничего иного, как равняться на филологию, а со временем и становиться филологией. Первой жертвой этого абсурдного превращения стал протестантизм. Уже с XIX века протестантская экзегеза удивляет мир кропотливейшим учетом букашек при полном пренебрежении к слону. Началось с того, что принялись рубить сук, на котором сидели сами, а кончилось тем, что, упав, даже не почувствовали ушибов и переломов. Давид Фридрих Штраус задал тон своей «Жизнью Иисуса», и с этого момента приходилось лишь гадать о степени растяжки и жизнестойкости маразма. В начале XX века в Берлине ведущие теологи уже дискутировали на тему «Жил ли Иисус?», причем так, что позавидовать им могли бы самые отмороженные атеисты. Потом пришло время теологии кризиса, а еще позже, уже в наши дни, начались церковные перформансы и биеннале. Профессор богословия Герд Людеманн назвал воскресение Христа величайшей нелепостью мировой истории. Епископесса Гамбурга Мария Епсен предложила заменить на церквах крест яслями, мотивируя это тем, что крест мрачен и напоминает о смерти, а при виде яслей хочется улыбаться и быть добрым. Наконец, в представленном лютеровским городом Виттенбергом списке номинантов на Лютеровскую премию (в протестантском мире это примерно то же, что Ленинская премия в мире советском) за 2012 год фигурировали три московские дебилки, отплясавшие молебен в Храме Христа Спасителя. Характерно, что номинация была поддержана Марго Кэссманн, бывшей председательницей Совета Евангелической церкви Германии и алкоголичкой, приобретшей скандальную известность за вождение автомобиля с 1,54 промилле в крови. Не следует только спешить с окончательной оценкой случившегося. Нелепость того, что такая номинация вообще могла иметь место, совсем не исключает другой нелепости, пусть не столь очевидной, зато не менее нелепой: того, что её в последнюю минуту отклонили.
5
Если Католическая церковь не дотянулась до этой рекордной планки, то прежде всего в силу своей несоизмеримо большей привязанности к традиции. Её беда в том, что со временем сама традиция всё меньше вписывалась в современность, а после Второй мировой войны и уже ближе к нашим дням, когда мировоззренческий гегемон Средней Европы был вытеснен более удачливым англосаксонским гегемоном, и вовсе стала отторгаться ею. Диспозицию конфликта лучше всего удастся понять, если представить себе её в противостоянии души ощущающей (вместе со служащей ей рассудочной душой) и души сознательной. Это и есть противостояние веры и знания, где первая возникает на стыке невнятных ощущений и соответствующих им рассудочных представлений с перерождением тех и других в религиозное чувство, а второе – в элементе сознания. Нужно будет представить себе некий трансплантат средневекового мира с более чем миллиардным населением, вживленный в плоть современности, или нагляднее: Локка и Джефферсона, беседующими о первой поправке, толерантности и однополых браках с папой Иннокентием III и братом Джироламо Савонаролой. Понятно, что успешность диалога может зависеть исключительно от степени сдачи позиций одной из сторон, то есть от того, насколько один из участников способен молча кивать головой, слушая беспрерывно говорящего другого. Нет ни малейшего сомнения в том, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем либерал признает, что скотоложество, к примеру, – это извращение. Либерал верит в абсолютность своих сверхсовременных прав и свобод с исступленностью, аналоги которой впору искать у религиозных фанатиков Средневековья, в то время как католик шаг за шагом сдает свои святыни под чудовищным прессом либеральной прессы. Он уступает, потому что не может не уступать. Его часы отстают на пять или шесть веков. Правда, уступает он нехотя и часто скрежеща зубами, в отличие от своего протестантского подельника, который по части уступчивости демонстрирует такую прыть, что от нее порой передергивает самих заказчиков. Но факт остается фактом, как бы парадоксально это ни выглядело: католицизм сегодня настолько же либеральнее либерализма, насколько этот последний, в свою очередь, католичнее католицизма. Они кричат о толерантности и готовности отдать жизнь за право их врага высказать свое мнение, но сборища их скорее напоминают хлыстовские радения или беснования флагеллантов. Католики тем временем больше заняты скелетами в шкафах собственного прошлого и приносят извинения за содеянные бесчинства веры: от Джордано Бруно, сожжение которого кардинал Ратцингер, будущий папа, назвал «нашей тяжелейшей виной», до туземных народов Океании, у которых Иоанн Павел II попросил (через Интернет) прощения за преступления, совершенные католическими миссионерами.